…Когда-то кресты с куполами срывали –
настала пора воздвижения Крестов!
(Виталий Тихоненков – поэт, композитор, бард и участник проекта «Общее Дело»)
Пожалуй, одна из самых кровопролитных и страшных войн, о которых, однако, никто никогда и нигде не объявлял, длилась с библейских времён и завершилась практически на наших глазах.

Деревня Кубовская. Фото: raevo.ru
С первых страниц книги Бытия (4-я глава) мы узнаем о братоубийце Каине, который, позавидовав Авелю, поднял на него руку. А затем, обличённый и проклятый Творцом, пытаясь скрыться от Его глаз и мести потомков убитого, огородил свое новое место проживания камнями. Так появился первый в истории человечества город, сразу противопоставивший себя существовавшей тогда единой, открытой, по сути, сельской цивилизации. Так началась эта война.
Да, город одержал в итоге убедительную викторию, безжалостно расправившись над некогда многочисленным и крепким противником, а горькие плоды этой, по сути, пирровой победы особенно заметны в России. С середины XIX века её то и дело сотрясали катаклизмы: за отменой крепостного права последовала земельная реформа, за капитализацией экономики – реформа Столыпина и урбанизация… Но основной, сокрушительный удар нанесён был русской деревне, конечно, с приходом к власти большевиков, объявивших на 90% крестьянской России открытую и беспощадную войну. Один за другим на неё обрушивались голодоморы, продразвёрстка, околхоживание, раскулачивание, бешеная индустриализация, оголтелая антирелигиозная кампания с массовым закрытием церквей, репрессии, подрыв доверия к старшему поколению… К слову, практически все вожди большевиков были уроженцами больших и малых городов.
Добил едва державшуюся на плаву ещё в 1970–80-е годы, сильно поредевшую советскую и уже поголовно колхозную деревню очередной переворот начала 1990-х.Который вновь учинили горожане или давно порвавшие с деревней и перебравшиеся в города её неблагодарные уроженцы. Подробное перечисление всех фаз той беспощадной войны потребует значительного увеличения объема текста, уведёт читателя в сторону от затронутой проблемы. Но в результате русская деревня была многократно ограблена, опустошена, изнасилована, развращена, споена, обезбожена и брошена подыхать при дороге. Многие тогда решили, что с ней раз и навсегда покончено и она уже никогда не сможет возродиться…
И в брёвнах, и в рёбрах
Как вернуть долг, взятый поколениями предков из неисчерпаемого, казалось, источника?
Осознавая трагичность всей ситуации, всё больше горожан, почти каждый второй из которых – потомок сельских жителей, чувствовали свою вину перед деревней. Словно вернувшийся со «стороны далече» блудный сын перед могилой отца или пышущий здоровьем крепыш – перед инвалидом-калекой. Но как можно вернуть долг, взятый поколениями предков из неисчерпаемого, как когда-то казалось, источника? Возможно ли это? Есть ли способ не просто навестить порой уже рассыпавшиеся в прах родовые дома или поросшие бурьяном могилы дедов-прадедов, но помочь тем, кто каким-то чудом остаётся жить в тех, часто сказочно красивых, краях?
Этот способ нашли и довели до ума организаторы и участники всероссийского проекта, переросшего уже в настоящее общероссийское движение – «Общее Дело: возрождение деревянных храмов Севера». Действительно, именно на русском Севере каким-то чудом лучше всего сохранилась та утраченная в иных местах культура, тот русский дух, который, конечно, должен пахнуть непременно деревом, лесом: хорошо протопленной от русской печи бревенчатой избой, жаркой баней с берёзовым веничком, поленницей свеженаколотых дров или, на худой конец, берестяной солонкой, звонкой кленовой ложкой, лыковым плетёным коробом или корзиной для грибов-ягод… И обязательно – старинной иконой в красном уголке!
И хотя «Бог не в брёвнах, а в рёбрах», именно деревянные храмы (которые лучше всего сохранились как раз на Севере) во многом остаются хранителями и носителями тех сакральных, потаённых глубин, той настоянной веками народной мудрости, которая веками питала душу русского народа. Поэтому на эти храмы и их защитников и обрушился всей мощью удар захвативших власть в России в 1917-м году богоборцев, перерожденцев и откровенных русофобов. Они и подстрекаемые ими, ожесточившиеся сердцами русские (русские ли?) люди и рушили, обезглавливали, приспосабливали под амбары, конюшни и клубы церкви. О том, что именно деревянные храмовые сооружения до сих пор ненавистны силам тьмы, свидетельствует и недавний поджог продолжателями их дела – сатанистами – деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века в Кондопоге…
А мы пойдем на Север!
Есть люди, которые спешат не к южным морям, а в обратном направлении – на север
Уже 15-й год подряд действует проект «Общее Дело», расширяя свои границы и пополняясь новыми и новыми волонтёрами из различных городов России, ближнего и даже дальнего зарубежья. В этом году стартовало около 20 экспедиций в Архангельскую, Вологодскую, Костромскую области, а так же в Карелию и Республику Коми. Да-да, есть люди, которые даже жарким летом спешат не к южным морям-океанам, а пакуют рюкзаки и устремляются в обратном направлении – на север. К ним и относятся волонтёры «Общего Дела», что в переводе с греческого означает хорошо знакомое верующим людям слово «литургия»!
Зачем ходить далеко за примерами, как затягивает этот процесс? Побывав в прошлом году в архангельской глубинке, где принимал участие в восстановлении часовни Святых мучеников Флора и Лавра, я целый год жил полученной там радостью. И, едва дождавшись отпуска, отправился в этот раз с группой единомышленников из Москвы, Петербурга и Сочи – в Карелию, где на слиянии двух рек – Водлы и Колоды – затаилась старинная деревня Кубовская с богатой и трагической историей!
Здесь был заявлен организованный местными активистами при поддержке музея-заповедника «Кижи» Фестиваль плотницкого мастерства, ставивший основной целью привлечение внимания республиканских властей к умирающим деревням Карелии, которых на сегодняшний день, по данным местного портала «Черника», 110! Лично из меня плотник никакой, но ведь отдать свой долг деревне можно не только махая топором!

Россия и русская деревня достигли того дна, дальше которого падать некуда
Преодолев более 1000 километров, мы попали в ту Россию, которую практически не показывают по телевизору (ну, разве что по «Спасу» или «Союзу»). Водлу – широкую и норовистую, как большинство карельских рек – пришлось преодолевать на пароме, частично в моторной лодке и, в конце концов, одолеть ещё и через подвесной мост, соединяющий берега над впадающей в Водлу рекой Колодой. Удивительное место: мы словно оказались в далёком и давно забытом прошлом! Двери домов тут не запирают, а недешёвые моторы оставляют прямо в лодках – главном транспортном средстве кубовлян. Да и воду местные жители для всех своих нужд берут прямо из реки – своей кормилицы!
Моему удивлению не было придела, когда рухнул и еще один стереотип о русской деревне. За неделю пребывания в селе, общения с местными жителями, из которых постоянно проживают в деревне сегодня около 30 человек, нам попался всего один выпивший. Похоже, Россия и русская деревня достигли того дна, дальше которого падать просто некуда. И, оттолкнувшись от него, они медленно поднимаются вверх! Символом этого стали и дети, которые нас встречали на берегу! Отчаянно белобрысые и голубоглазые, а ещё необычайно вежливые и гостеприимные, потому что первыми поздоровались и с радостью показали храм Смоленской иконы Божией Матери – главную цель нашей экспедиции.

Участники и гости фестиваля после открытия
Долгая дорога к храму
Построен он был в 1888-м году. По местному преданию, бережно сохранённому местным летописцем и краеведом Борисом Павловичем Фофановым, именно Смоленскую икону прибило к берегу реки после одного из наводнений. Деревня тогда была большая, многолюдная и состояла из двух сошедшихся как раз у храма концов: Усть-Колоды и Над-Водлой-рекой. Рядом построили и двухэтажный дом для священника – иерея Владимира Звероловлева. Церковь была с однокупольной, с деревянной же колокольней, также увенчанной крестом. Её украшением, помимо почитаемой иконы и внушительного колокола весом 31 пуд и 28 фунтов, была «люстра из Иерусалима» – надо думать, паникадило – о 36 свечах, которая на всех прихожан производила огромное впечатление. Храм, как и водилось в те времена, был центром духовной и культурной жизни села. В нём все молодые пары венчались, крестили детей, встречали церковные праздники. Тут же отпевали и усопших – рядом с церковью образовался сельский погост.
Сам отец Владимир пользовался уважением у сельчан, т.к. был не только хорошим, безотказным священником, но ещё и учителем географии, истории и церковного пения в местной же школе (вот вам и пресловутая ЦПШ!). К нему же обращались в случае заболеваний, знать, слыл он еще и лекарем! Был батюшка ещё и справным хозяином: держал двух лошадей, три коровы, заготовлял сена 15 стогов – большая была у него семья!
Впрочем, основательно, многодетно и в достатке жили тогда многие сельчане, не ведавшие проблем повышения пенсионного возраста или безработицы. В этих краях сроду не было ни крепостного права, ни барщины, ни оброков, а обилие рыбы, богатые сенокосы и охотничьи угодья позволяли жить хорошо, вести достойную, степенную, размеренную жизнь.
О том благодатном периоде говорят сегодня сохранившиеся дома о двух и трех этажах – настоящие терема! Даже нежилые и давно брошенные, они стараются сохранить свою стать, осанку, будто бывалые солдаты на строевом смотре Государя-Императора, выпячивая грудь с наградами: то затейливым узором на чудом сохранившихся наличниках, то остатками «гульбища» – пришедшей сюда из северной столицы манерной моды – балкончика-пристройки. Но годы, конечно, берут своё, и один за другим эти старые солдаты-дома падают, словно подкошенные, в неравном бою со временем. Такое тяжкое и унылое зрелище знакомо, наверное, каждому, кто побывал хоть раз в русской деревне.
Отличие Кубовской (так она стала называться с середины ХХ века) в том, что здесь нашлись неравнодушные люди, которые решили побороться за свою историю и бросить вызов всепобеждающему, казалось, времени! Усилиями небольшой группы местных жителей – энтузиастов, романтиков и краеведов – удалось добиться многого. Деревне приказом Министерства культуры Карелии присвоен статус исторического поселения, ведь официальной датой ее образования считается 1582 год. Здесь сохранилась историческая застройка конца XIX – начала XX вв. Несколько домов и построек, срубленных в тот период, включая и церковь Смоленской иконы Божией Матери, внесены в список объектов культурного наследия Карелии.

Дом Шляминых
Кроме этого, тут находятся сразу два бережно сохраняемых музея: «Жил человек», посвященный наиболее известным уроженцам села, и «Народный музей семьи Фофановых» – родовая изба одного из главных хранителей родного села, много сделавшего для популяризации родного края, 86-летнего Бориса Павловича Фофанова, где сохранён интерьер начала 1950-х годов. Есть, кроме них, в селе и мемориальные объекты, требующие приложения усилий для сохранения памяти. Это – находящийся в аварийном состоянии дом Омелиных, откуда ушли на фронт и не вернулись пятеро братьев – памятник погибшим на войне жителям села. Относится к ним и дом Шляминых, который стал вторым объектом, попавшим в поле зрения волонтёров «Общего Дела».

Кровельные работы на доме Шляминых
Время Каина
Судьба этого добротного в прошлом строения 1910 года постройки и его хозяев вполне типична, наверное, не только для этого села. Возвели этот просторный дом с хозяйственными пристройками и баней на берегу Водлы споро и дружно. Жила в нем большая семья Шляминых. Её глава Алексей Иванович был хозяин справный, хорошо управлял домом, держал несколько коров и лошадей, сельхозинвентарь. Но не спешил вступать в колхоз «Путь Ильича», в авральном порядке организованный в 1930-м году в деревне. И поплатился за это, как и многие другие крепкие хозяева, получившие обидное прозвище кулаков и подкулачников. Снова зависть, облеченная в белые одежды борьбы за всеобщее равенство (а значит, за благо), взяла верх!
За неуплату обременительного для единоличников индивидуального налога в январе 1932 года он был арестован и осуждён. И, как непримиримый враг советской власти, выслан строить Комсомольск-на-Амуре, где вскоре скончался. А его многодетная семья была без особых церемоний переселена в «заднюху» – пристройку для скота, где и провела лютую зиму 1933–34 гг. Дом этот вскоре передали на баланс Беломоро-Балтийского комбината (ББК), и в нём разместилось руководство 14-го отделения ББК НКВД, а вблизи самой деревни в спешном порядке возвели лагерь: бараки, обнесённые колючей проволокой, с караульными вышками по углам. Он просуществовал до начала войны.
Этот тяжкое для деревни время не обошло и Смоленской церкви, словно затаившейся на взгорке среди елей в ожидании чего-то страшного. Но у неё не было шансов остаться незамеченной и укрыться от вошедших в раж погромщиков – местных комсомольских активистов. Вот как описывает этот позорный период в жизни родной деревни очевидец и летописец Борис Фофанов: «В 1934-м году (осенью) был такой призыв: ‟Церкви – под клубы”… Рядом – большая роща и кладбище, над многими могилами были надгробья, металлические кресты, каменные памятники, мраморные плиты. Всё разрушили до основания. Очень обидно было, когда в один из выходных дней на Каревом поле близ церкви был разведён большой костёр, в котором жгли всё, в основном большой иконостас. В костёр бросали иконы, церковные книги, кресты. Чёрный дым клубился над Каревым полем, которое разделяло две деревни. Разрушали церковь и жгли церковный инвентарь местные жители…».
Брат поднял руку не только на брата, но и на могилы предков, на храм, где их крестили и венчали
Пострадал и сам священник. Отца Владимира увезли в питерские «Кресты», где подвергали допросам, избивали, но в итоге по старости лет отпустили восвояси. Зимой, без денег, он, Бог ведает какими путями, добрался из Питера в родную деревню.
Что же произошло с вполне добропорядочными, не бедствующими жителями этого богатого села? Как они могли решиться на такое? Брат опять поднял руку уже не только на брата, но и на могилы своих предков, на храм, где их крестили и венчали? Ответ на этот вопрос, видимо, ещё предстоит получить, но и тут не обошлось без влияния города, столицы. Развращенные умом столичные жители, отвергнув Божьего помазанника, открыли дорогу произволу. Расплатой за эти вопиющие к небу беззакония стала опустошительная для деревни Великая Отечественная война, унёсшая и покалечившая жизни сотни её уроженцев.
Осторожные надежды
В этом конкретном селе достигнуто перемирие в изнурительной войне города и деревни
Хочется верить, что полученные жестокие уроки пошли впрок. Очень хочется верить. Для этого мы, собственно, и приехали, движимые исключительно верой. В любящего, снова и снова прощающего нас Отца, в Россию, в её будущее! И даже в хоть и не тесных, но рамках фестиваля мы убедились, что для этого есть все основания! Люди настрадались и буквально изголодались по хорошим новостям и перспективам. Они рады были показать московским гостям, свалившимся к ним будто с небес, всё лучшее, что у них есть. Нас угощали местными пирогами-калитками и заваливали рыбой, картошкой и грибами. Мы водили с ними хороводы и пели у костра задушевные песни. Нам топили на выбор несколько бань и с удовольствием устраивали экскурсии по родной деревне, рассказывая о её достопримечательностях. А к ним относятся не только люди и дома, в которых они жили, но и замечательная природа. Вблизи села находится родник с чистейшей водой, лучшей по качеству во всём Пудожском районе, и знаменитые карельские пороги, один из которых – Щелика – привлекает множество туристов своей красотой. Нам показалось, что в этом конкретном селе достигнуто чаемое и долгожданное перемирие в изнурительной войне некогда враждующих сторон – города и деревни!

Аварийные работы на храме
Не оставались в долгу и мы, отвечая радушным и хлебосольным хозяевам качественной топорной работой (так на Руси именовались вообще плотницкие работы) по консервации храма и дома Шляминых. Руководили процессом опытные мастера из музея-заповедника «Кижи» во главе с заместителем директора Александром Любимцевым. За неполную неделю, с учётом отрыва на отдых, обед и различные культурные мероприятия в рамках фестиваля, было сделано немало: перекрыта крыша над хозяйственной частью бывшего дома Шляминых; устранены протеки в крыше храма, частично заменена кровля, отремонтированы дверь, навес над входом, сделаны продухи в фундаменте церкви. Но самым, пожалуй, знаковым моментом стало воздвижение над храмом Креста, изготовленного волонтёрами. Когда его поднимали над алтарной частью, в небе, к радости присутствующих на этом уникальном для деревни событии, появилась радуга! В тот же день в храме, впервые за многие годы, был совершён чин Крещения младенца настоятелем храма иеромонахом Лазарем. Разве этого мало для возрождения деревни?
К этому стоит добавить, что фестиваль, с одобрения местных жителей, получил постоянную прописку в Кубовской. А в здании пустующей гостиницы решено открыть межрегиональный Центр плотницкого мастерства. Много еще задумок, которые, с Божией помощью, удастся реализовать. Пьянство, лень и равнодушие – главные, как считается, беды русской, да и карельской тоже, деревни – здесь, кажется, преодолены. Осталось сделать нормой жизни многодетность и Православие! Живые и яркие примеры этому есть, как например, опыт деревни Пяльма, расположенного по соседству, в Пудожском же районе. Тут, в брошенные когда-то дома предков, по словам старосты Петра Поташева, возвращаются жители, и за несколько последних лет уже родилось пятеро новых членов сельской общины. А возрождение села, по признанию Петра Алексеевича, началось с возрождения Ильинской часовни.

Деревня Кубовская. Фото: https://vk.com/photo-120444625_456239637
P.S.
Не могу, завершая материал, не отметить еще один неожиданный феномен, с которым пришлось здесь столкнуться. Самым, пожалуй, активным организатором фестиваля и сторонником спасения деревянных памятников выступила местная жительница – татарка по национальности, уроженка Казахстана, но горячий патриот деревни – Зульфия Шевченко. Чего нельзя сказать о главе поселения Кубово, кому административно подчиняется деревня – Александре Великанове, уроженце исчезнувшей с лица земли карельской деревни Салмозеро. Он как мог противился проведению фестиваля, ставя палки в колёса, тем самым препятствуя возрождению Кубовской! Не хочется гадать, но не его ли предки были среди рушивших Смоленский храм и кладбище?
А значит, война продолжается…
Роман Илющенко
Фото автора и других участников фестиваля
6 сентября 2018 г.
Для перекрытия крыши на храме Трёх Святителей и Смоленской Иконы Божьей Матери необходимо закупить материал, на который ни у старосты деревниЧистяковой Оксаны Геннадьевны, ни у самих жителей нет средств. Все желающие поучаствовать в этом благом деле могут перечислить деньги на карту СБ РФ, привязанную к телефону 89210102263 Чистяковой О. Г., с пометкой «На ремонт кровли храма».

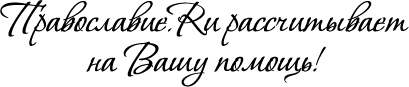


Добавить комментарий